Мы все считаем, что людей с инвалидностью надо поддерживать. Но это настроение меняется, когда возникает вопрос: за чей счет инклюзия?
Представляем нашего нового постоянного колумниста: Эльмиру Наберушкину, кандидата социологических наук, доцента Саратовского государственного технического университета имени Гагарина.
Она занимается концепцией инклюзивного дизайна. В своих колонках она будет рассказывать о том, как должен быть устроен не идеальный – нормальный город, доступный для всех.
На моей защите докторской диссертации представитель компании «Горэлектротранс» вполне обоснованно рассуждал: низкопольный троллейбус (с откидным пандусом, низкой посадкой и без ступенек) стоит восемь миллионов рублей, а обычный — в два раза дешевле. Почему предприятие должно купить один такой троллейбус вместо двух типовых? Это невыгодно предпринимателю и неудобно рядовым горожанам с точки зрения ожидания на остановке: чем меньше троллейбусов — тем дольше придется ждать.
А три года назад я видела другой случай: как вполне хорошие, серьезные родители школьников, не стесняясь в выражениях, сопротивлялись инклюзивному обучению. Основной аргумент: «Почему мой здоровый ребенок будет получать меньший объем знаний из-за детей-инвалидов, которые отнимут время у учителя?» Перефразируя, получаем тот же вопрос: «Кто должен платить и почему я?»
Сегодня многие в нашей стране в той или иной степени представляют, что такое доступная среда. Мы все больше слышим о равноправии инвалидов в обществе, о том, что люди не делятся на инвалидов и неинвалидов. Скорее всего, большинство россиян поддерживают идеи о том, что надо улучшать качество жизни людей с физическими недостатками, пенсионеров, детей с нарушениями развития.
Но филантропическое настроение тут же меняется, когда возникает вопрос о том, кто заплатит за доступность, за обучение, трудоустройство. За чей счет инклюзия? На чьи средства наши города, транспорт, школы и парки станут перестраиваться в безбарьерные?
Так можно вообще договориться до нехорошей мысли о попирании интересов всех горожан ради блага инвалидов.
К счастью, на моей защите аудитория была высокообразованной, прогрессивно мыслящей и, что называется, «в теме». Мы говорили о социальном государстве, приводили международные документы ООН, обязывающие создавать доступное для инвалидов пространство, говорили о моральной, человеческой стороне вопроса. И пришли к выводу о главенстве социальной справедливости.
Но к сожалению, порой общество дает очень некорректные и оскорбительные ответы на вопрос «кто платит». Происходит это, на мой взгляд, не потому что люди озлоблены или равнодушны, а от того, что обществу действительно нужно четко понимать: в конечном итоге эти деньги будут тратиться на благо всех.
Инклюзивный дизайн – это не только пространство «специально для» людей с инвалидностью. Инклюзивный дизайн – это такая организация предметов и услуг, когда абсолютно любому человеку очень легко ими пользоваться. В следующих колонках расскажу об этом подробнее, а в двух словах вот что это такое.
Это когда, например, многие крупные компании, производящие продукты, сотрудничают с институтами универсального дизайна и создают упаковки, с которыми легко разберется любой потребитель: независимо от возраста, физического состояния и дееспособности. В Германии я видела терминалы по продаже автобусных билетов, удобные и для иностранца, и ребенка, и человека с нарушениями развития. Автоматические двери в зданиях, проходы без порогов, звуковые светофоры на дорогах – это все элементы инклюзивного дизайна, которые спасли множество людей от травм.
А поскольку это нужно для всех, то и делать это должно быть интересно всем.
Безусловно, в борьбе за доступность российских городов ключевую роль должно играть государство: в условиях, когда население стареет, инвалидизация растет и с развитием технического прогресса становится все больше угроз здоровью, оно не может о этом не думать.
Вместе с тем, уповать на сверхвозможности и сверхмилость государства, по меньшей мере, наивно.
В центре моего города, Саратова, крыльцо одного нового здания банка полностью перегородило тротуар. Горожане теперь послушно обходят его по проезжей части. Общественные организации работают очень слабо: пишут письма, получают письменные ответы.
И все молчат.
Поэтому я считаю, что кто должен платить за доступность – вопрос не столь существенный. По сравнению с вопросом, могут ли рядовые горожане, в том числе с инвалидностью, заявлять о своих интересах, изменять города своими действиями и коллективным требованиями. Почему находятся деньги на всем мешающее мраморное крыльцо банка, похоронившего тротуар, и нет денег на создание удобных съездов на дорогах и другие элементы доступности?
Ответ очевиден: публика, чьи права на пригодный для жизни город попираются, остается молчаливо-равнодушной.
Когда в ответ на «челобитные» приходят лишь формальные бюрократические «отписки», нужно организовывать всевозможные акции, молодежные флешмобы, которые обращают внимание на социальные проблемы.
А чтобы это было, нужно, чтобы каждый школьник, бизнесмен, студент, пенсионер знал, как должно быть. Именно с этого начиналось создание инклюзивного дизайна в Норвегии и других европейских странах, которые мы постоянно приводим в пример: «А вот там-то легко и свободно!»
Тогда и вопрос о том, кто и с какой стати должен платить, сам собой уйдет в историю.
От редакции. Если вы хотите сами наконец создать доступное пространство в своем подъезде и на улицах своего города, то, как и говорит Эльмира Наберушкина, начинайте заявлять об этом.
А также присылайте нам фотографии неудобных и нелепых пандусов, крутых лестниц, высоких порогов, которыми вам приходится пользоваться каждый день. Подробнее об этом читайте тут, в нашем спецпроекте «Недоступная среда».
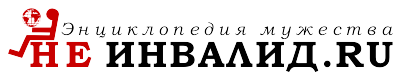














Прочтение заметки новоиспеченного доктора соц. наук производит двойственное впечатление. С одной стороны, заинтересованный взгляд на проблему создания и поддержания безбарьерной городской среды всегда является благом, поскольку заставляет задуматься еще раз и/или по-новому взглянуть на этот вопрос. Однако, с другой стороны, несколько реальных примеров из жизни троллейбусов и обычных школьников без надлежащей оценки специалиста-социолога, выводов, предложений по изменению ситуации в стране, выглядят как оправдание сегрегационных настроений. Фраза о всеобщем "молчании" звучит зловеще без результатов профессионального социологического исследования и упоминания акций, проведенных в Москве и Санкт-Петербурге неравнодушными общественниками.
На самом деле реальные примеры из жизни школы подкреплены масштабными социологическими исследованиями, которые проводил наш коллектив. В отчетах и публикациях есть и оценка и выводы и предложения. Формат и объем статьи на данном сайте конечно не позволяет все это вместить.
В популярной заметке, конечно, невозможно привести строгие выкладки и множество оценок. Для этого есть специальные научные публикации. Наш комментарий возник из естественного, как нам кажется, желания получать от прочитанного новую информацию. Собрание общеизвестных положений о текущем состоянии вопроса без авторских обобщенных количественных оценок не выглядит свежо, достоверно и , главное, репрезентативно. В определенной мере провокационный вопрос, поставленный в названии заметки, остался без внятного ответа или позиции автора.
Понятие об "инклюзивном дизайне" трудно назвать украшением архитектурного лексикона. Подобно термину "инклюзивная школа", который, на наш взгляд, не является корректным (правильнее говорить о массовой школе, использующей в своей работе принципы инклюзии), "инклюзивный дизайн" должен стать естественным для "пространства", свободного от сегрегации лиц с ОВЗ. Ссылки на скандинавский опыт и зарубежные поездки автора заметки, конечно, убедительны. Важно только упомянуть о социальном (немедицинском) понимании инвалидности: человек перестает быть инвалидом если для его жизнедеятельности создана безбарьерная среда, а общество относится к нему как к равному. Поиск механизмов формирования вышеназванных условий — важная задача социологов-новаторов.
доступность имеет столько терминов. Предыдущей комментатор использовал "инклюзивный дизайн", я часто слышала "универсальный дизайн" , и этот самый дизайн даже имеет целый центр разработок за океаном. Но основа для всех названий одна — право жить на равных.
Я могу дать ссылки уважаемому Виктору на результаты именно профессиональных и именно социологических исследований, касающихся различных аспектов инвалидности, которые я и мои коллеги проводили начиная с 1997 года.
Большое спасибо за возможную помощь. Мы (общественная организация родителей детей с инвалидностью из Санкт-Петербурга) крайне заинтересованы в изучении профессиональных результатах исследований, которые обозначены в Вашей заметке. Литературу по теме мы, конечно, читаем с пристрастием и жаждой практических приложений, но, как правило, после чтения вопросов возникает больше, чем имеется обоснованных заключений специалистов. Некоторые социо-психологические исследования мы вынуждены сами проводить для информационного обеспечения необходимых нашим детям административных решений.
Универсальный дизайн — значительно лучше звучит, чем инклюзивный. Если посмотреть внимательно вокруг — мы увидим: высокие бордюры; неровные тротуары — это заметно более всего в дождь или весной, после таяния снега; трамвайные пути — не "утопленные", бесшумные, а по-старинке открытые; мало лавочек для отдыха в тени деревьев; отсутствие зон отдыха для пожилых и мам с малышами в " шаговой доступности" — эти и другие подобные " мелочи" настолько нам привычны, что мы и не представляем себе, что может быть по-другому. А вот почему-то в Европе может быть — обычным, для всех. Еще в 1997 году в Праге меня удивил трамвай: кнопка для сигнала водителю о необходимости открыть дверь — снаружи: для тех, кто опоздал. Так что если мы сделаем комфортной среду для всех — не нужно будет выделять инвалидов. За чьи деньги? Да за те же, которые сейчас тратим на новое строительство и ремонт действующего — главное, выполнять по технологии… И не будет нужды прятаться за спины инвалидов…